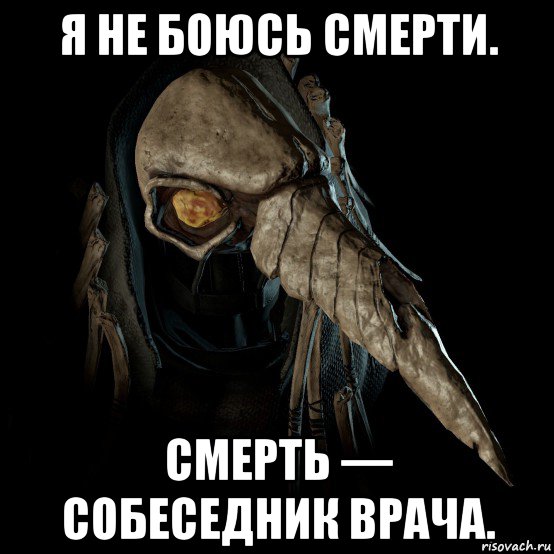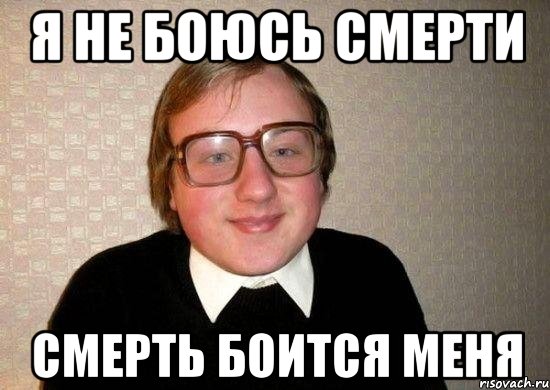Мне кажется, я не боюсь смерти
Постоянный автор «Правмира» Варвара Турова написала очень личный и честный текст — приглашение к разговору и совместному осмыслению.
Я летела на самолете, и самолет стал падать. Вокруг меня люди стали плакать, молиться, кричать, биться в истерике. А я подумала: «Боже мой, я умираю, какое счастье». Меня охватила настоящая эйфория. Следом мелькнула мысль «Как же мама, папа, они не переживут», и сразу же следующая — «Теперь это уже не мое дело. Это уже не моя проблема. К сожалению, я уже не могу им помочь. Я должна, обязана заняться своим делом, прямо сейчас, делом умирания, я должна заняться собой, и наконец-то у меня есть эта возможность».
Я сидела в кресле, смотрела в окно, видела, с какой невероятной скоростью приближаемся мы к земле, и испытывала настоящее счастье, нетерпение, как в детстве,когда не терпится получить подарок. Потом самолет смог вырулить, благополучно приземлился, я по этому поводу не испытала ничего, ну так, пожала плечами, и пошла по своим делам, а потом проснулась.
Этот сон — всего лишь сон — я помню каждый день. Я помню это счастье, полное отсутствие страха, и нетерпение — от того, что скоро я узнаю, как обстоит дело там, на самом деле, наконец-то я узнаю, что там. Я узнаю, есть ли Бог, я узнаю, что он такое, я узнаю, что происходит после жизни. Я стану свободной.
Мне пока что очень повезло, я пока что почти никогда не теряла близких. Мой дедушка умер от старости, он умер у нас на руках, окруженный близкими, мы всей семьей не выходили из дома два последних дня его жизни, мы с сестрой пели ему на два голоса, он был с нами, нам было грустно с ним расставаться, но в этом не было трагедии. Это был естественный, красивый и счастливый уход.
Последнее время я хожу на похороны почти каждую неделю. Умирают друзья, дети и родители многих моих друзей. Их смерти не касаются меня впрямую, я хожу туда, чтобы поддержать своих друзей. Я даже представить не могу, каково им. Как они это переживают. Я не могу представить ничего тяжелее, чем разлука с любимыми родными людьми, с детьми.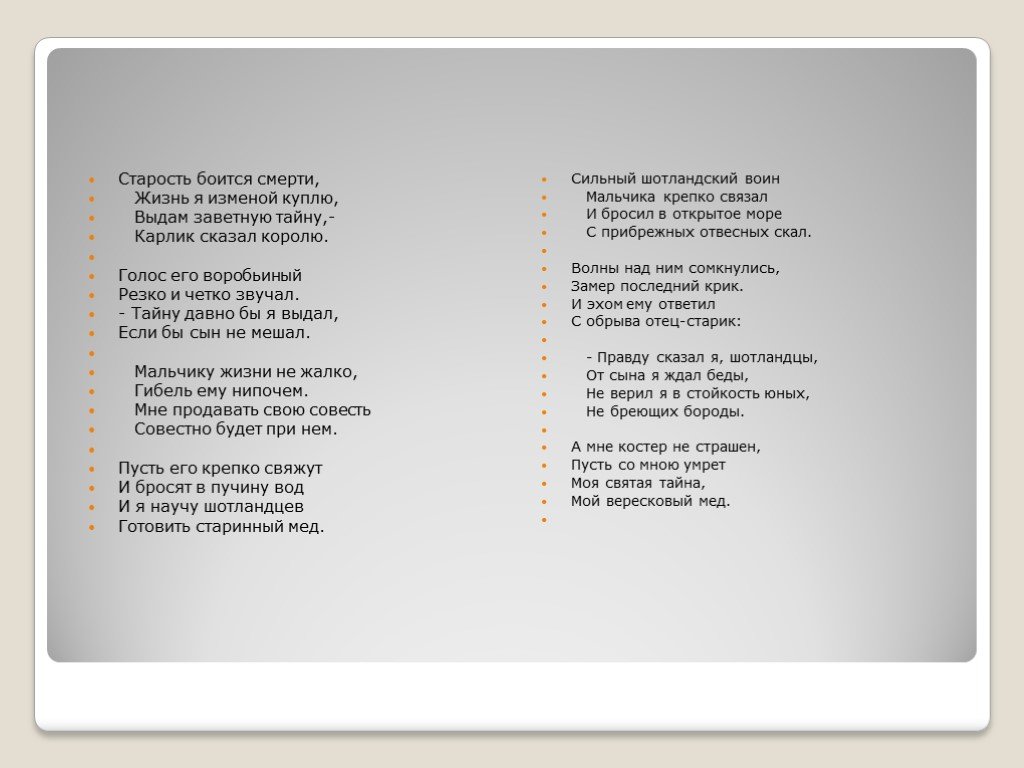 Я не могу представить, как можно пережить смерть собственного ребенка. Это случилось с очень многими моими близкими. Слишком многими.
Я не могу представить, как можно пережить смерть собственного ребенка. Это случилось с очень многими моими близкими. Слишком многими.
Я очень боюсь терять. У меня такая фобия. Некоторые люди боятся темноты или высоты. Я боюсь потерять. Я не знаю, как быть с этой фобией, мне ведь точно придется терять, хоронить, снова и снова просыпаться и знать, что мне не приснилось это горе, знать, что я больше не увижу кого-то, кого очень люблю. Моя фобия настолько сильна, что я не могу допечатать этот текст. Меня сковывает этот страх.
Недавно я поделилась этим страхом со своей семьей. Я сказала им — «пожалуйста, будьте осторожны, осторожно водите машину, проверяйтесь у врачей, вообще, берегите себя, потому что я очень боюсь вас потерять, я боюсь этого постоянно, в ежедневном режиме, без выходных». Мне ответили в том смысле, что так нельзя, надо верить, надо верить и надеяться на лучшее. Надо верить, что все будет хорошо. И надо верить, что смерть не разлучит нас. Надо верить.
Меня крестили, когда мне было несколько недель. Я выросла в доме, в котором слова вера, православие, церковь имели и имеют значение. Я выросла в традиции, в которой принято не сомневаться в существовании ада и рая, в существовании Господа, который поощряет и наказывает, испытывает и любит, который больше, лучше и прекраснее всего на свете. Я выросла в православии, в православной Церкви, в которой не принято задавать слишком много вопросов. Принято верить. Я выросла в этом и я не задавала вопросов. Мне не приходило в голову их задать. Я не знаю, к чему я пришла спустя много лет того, что сама считала верой.
Я выросла в доме, в котором слова вера, православие, церковь имели и имеют значение. Я выросла в традиции, в которой принято не сомневаться в существовании ада и рая, в существовании Господа, который поощряет и наказывает, испытывает и любит, который больше, лучше и прекраснее всего на свете. Я выросла в православии, в православной Церкви, в которой не принято задавать слишком много вопросов. Принято верить. Я выросла в этом и я не задавала вопросов. Мне не приходило в голову их задать. Я не знаю, к чему я пришла спустя много лет того, что сама считала верой.
Привет, меня зовут Варя, я учусь петь, я православная, и я не знаю, есть ли Бог. Или, например, я не верю, что существует ад. Я не могу поверить, что великий, прекрасный Бог, которого я, как я всегда думала, любила всю свою жизнь, может взять и не простить кого-то. Отправить кого-то на раскаленную сковородку, в кипящее масло. Я не знаю, что такое рай. Увидимся ли мы с нашими любимыми, потом, на небесах? Или рай это индивидуальное понятие, частная собственность, отдельные номера с красивым видом?
Фото: sitewomen-samai. ru
ru
Я выросла и стала задавать себе все эти вопросы. Я не знаю, как быть с основными догмами, законами и тезисами Православия, почти к каждому из них у меня теперь есть вопрос. Я не нахожу на них ответов. Может быть, моя вера не проходит испытание моими же собственными вопросами. Может быть, она непростительно мала. Я не знаю.
Но я не сомневаюсь ни одной секунды — жизнь не кончается смертью. Я чувствую, знаю, слышу это. В каждом дне, в каждом порыве ветра, я чувствую и ощущаю физически существование чего-то несравнимо большего, чем наша жизнь. Может быть я слишком самонадеянна, раз мне приснился такой прекрасный сон про собственную смерть. Может быть, это совершенная иллюзия, милая мелодрама. Может быть, мне только кажется, что я не боюсь своей собственной смерти. Страх смерти — один из основных инстинктов любого живого существа, страх смерти — наш центр, страх руководит нами, провоцирует нас, сковывает нас, развивает нас, страх движет нами. Может быть, я боюсь своей собственной смерти так сильно, что даже не замечаю этого страха. Но мне ничего неизвестно об этом. Мне кажется, я не боюсь.
Но мне ничего неизвестно об этом. Мне кажется, я не боюсь.
Я боюсь терять.
Я каждый день думаю, какой большой это эгоизм. Какая большая это гордыня, делать такую большую разницу, между своей смертью и смертью близких.
Мне придется многих терять, я не смогу этого избежать, я не смогу к этому заранее подготовиться, я не смогу подстелить соломку, мое сердце будет разрываться каждый раз, когда мне придется терять кого-то, кого я люблю. Но каждый день, каждый день, ежедневно, без выходных, я стараюсь помнить — когда-нибудь я тоже умру. Это помогает.
Я умру, и я узнаю, как обстоят дела на самом деле. И я надеюсь, что каждым днем, каждым порывом ветра, каждым ливнем, каждой птицей над рекой, каждым розовым небом, зимним вечером, каждым знойным августовским днем, каждым толстенным старым деревом, каждой пушинкой, каждой сменой света, когда солнце в полдень вдруг уходит за тучу, и в комнате становится темней — всем этим я каким-то образом смогу помочь тем, кто будет тосковать обо мне. Может быть, каким-то образом я смогу помочь им точно чувствовать, что моя жизнь не кончилась смертью. Что жизнь не кончается смертью. Что жизнь не конечна.
Может быть, каким-то образом я смогу помочь им точно чувствовать, что моя жизнь не кончилась смертью. Что жизнь не кончается смертью. Что жизнь не конечна.
И что смерти нет.
Поскольку вы здесь…
У нас есть небольшая просьба. Эту историю удалось рассказать благодаря поддержке читателей. Даже самое небольшое ежемесячное пожертвование помогает работать редакции и создавать важные материалы для людей.
Сейчас ваша помощь нужна как никогда.
Почему я не боюсь смерти
МИТРОПОЛИТ АНТОНИЙ (СУРОЖСКИЙ) (1914-2003)
У меня отношение к смерти своеобразное, и мне хочется объяснить, почему я к смерти отношусь не только спокойно, но с желанием, с надеждой, с тоской по ней.
Мое первое яркое впечатление о смерти — разговор с моим отцом, который мне как-то сказал: “Ты должен так прожить, чтобы научиться ожидать свою смерть так, как жених ожидает свою невесту: ждать ее, жаждать по ней, ликовать заранее об этой встрече, и встретить ее благоговейно, ласково”. Второе впечатление (конечно, не сразу, а много спустя) — смерть моего отца. Он скончался внезапно. Я пришел к нему, в бедную комнатушку на верхушке французского дома, где была кровать, стол, табуретка и несколько книг. Я вошел в его комнату, закрыл дверь и стал. И меня обдала такая тишина, такая глубина тишины, что я, помню, воскликнул вслух: “И люди говорят, что существует смерть!.. Какая это ложь!”. Потому что эта комната была преисполнена жизнью, причем такой полнотой жизни, какой вне ее, на улице, на дворе я никогда не встречал. Вот почему у меня такое отношение к смерти и почему я с такой силой переживаю слова апостола Павла: Для меня жизнь — Христос, смерть —приобретение, потому что пока я живу в плоти, я отделен от Христа… Но апостол прибавляет дальше слова, которые меня тоже очень поразили. Цитата не точна, но вот что он говорит: он всецело хочет умереть и соединиться со Христом, но прибавляет: “Однако, для вас нужно, чтобы я остался в живых, и я буду продолжать жить”. Это последняя жертва, которую он может принести: все, к чему он стремится, на что он надеется, чего он делает, он готов отложить, потому что он нужен другим.
Второе впечатление (конечно, не сразу, а много спустя) — смерть моего отца. Он скончался внезапно. Я пришел к нему, в бедную комнатушку на верхушке французского дома, где была кровать, стол, табуретка и несколько книг. Я вошел в его комнату, закрыл дверь и стал. И меня обдала такая тишина, такая глубина тишины, что я, помню, воскликнул вслух: “И люди говорят, что существует смерть!.. Какая это ложь!”. Потому что эта комната была преисполнена жизнью, причем такой полнотой жизни, какой вне ее, на улице, на дворе я никогда не встречал. Вот почему у меня такое отношение к смерти и почему я с такой силой переживаю слова апостола Павла: Для меня жизнь — Христос, смерть —приобретение, потому что пока я живу в плоти, я отделен от Христа… Но апостол прибавляет дальше слова, которые меня тоже очень поразили. Цитата не точна, но вот что он говорит: он всецело хочет умереть и соединиться со Христом, но прибавляет: “Однако, для вас нужно, чтобы я остался в живых, и я буду продолжать жить”. Это последняя жертва, которую он может принести: все, к чему он стремится, на что он надеется, чего он делает, он готов отложить, потому что он нужен другим.
Смерть я видел очень много. Я пятнадцать лет работал врачом, из которых пять лет на войне или во французском Сопротивлении. После этого я сорок шесть лет прожил священником и хоронил постепенно целое поколение нашей ранней эмиграции; так что смерть я видел много. И меня поразило, что русские умирают спокойно; западные люди чаще со страхом. Русские верят в жизнь, уходят в жизнь. И вот это одна из вещей, которые каждый священник и каждый человек должен повторять себе и другим: надо готовиться не к смерти, надо готовиться к вечной жизни.
О смерти мы ничего не знаем. Мы не знаем, чтó происходит с нами в момент умирания, но хотя бы зачаточно знаем, что такое вечная жизнь. Каждый из нас знает на опыте, что бывают какие-то мгновения, когда он живет уже не во времени, а такой полнотой жизни, таким ликованием, которое принадлежит не просто земле. Поэтому первое, чему мы должны учить себя и других, это готовиться не к смерти, а к жизни. А если говорить о смерти, то говорить о ней только как о двери, которая широко распахнется и нам даст войти в вечную жизнь.
Но умирать все-таки не просто. Что бы мы ни думали о смерти, о вечной жизни, мы не знаем ничего о самой смерти, об умирании. Я вам хочу дать один пример моего опыта во время войны.
Я был младшим хирургом в прифронтовом госпитале. У нас умирал молодой солдатик лет двадцати пяти, моих лет. Я пришел к нему вечером, сел рядом и говорю: “Ну, как ты себя чувствуешь?” Он посмотрел на меня и ответил: “Я сегодня ночью умру”. – “А тебе страшно умирать?” — “Умирать не страшно, но мне больно расставаться со всем тем, что я люблю: с молодой женой, с деревней, с родителями; а одно действительно страшно: умереть в одиночестве”. Я говорю: “Ты не умрешь в одиночестве”. — “То есть как?” — “Я с тобой останусь”. — “Вы не можете всю ночь просидеть со мной…” Я ответил: “Конечно, могу!” Он подумал и сказал: “Если даже вы и просидите со мной, в какой-то момент я этого больше сознавать не буду, и тогда уйду в темноту и умру один”. Я говорю: “Нет, вовсе не так. Я сяду рядом с тобой, и мы будем разговаривать. Ты мне будешь рассказывать все, что захочешь: о деревне, о семье, о детстве, о жене, обо всем, что у тебя в памяти, на душе, что ты любишь. Я тебя буду держать за руку. Постепенно тебе станет утомительно говорить, тогда я стану говорить больше, чем ты. А потом я увижу, что ты начинаешь дремать, и тогда буду говорить тише. Ты закроешь глаза, я перестану говорить, но буду тебя держать за руку, и ты периодически будешь жать мне руку, знать, что я тут. Постепенно твоя рука, хотя будет чувствовать мою руку, больше не сможет ее пожимать, я сам начну жать твою руку. И в какой-то момент тебя среди нас больше не будет, но ты уйдешь не один. Мы весь путь совершим вместе”. И так час за часом мы провели эту ночь. В какой-то момент он действительно перестал сжимать мою руку, я начал его руку пожимать, чтобы он знал, что я тут. Потом его рука начала холодеть, потом она раскрылась, и его больше с нами не было. И это очень важный момент; очень важно, чтобы человек не был один, когда уходит в вечность.
Ты мне будешь рассказывать все, что захочешь: о деревне, о семье, о детстве, о жене, обо всем, что у тебя в памяти, на душе, что ты любишь. Я тебя буду держать за руку. Постепенно тебе станет утомительно говорить, тогда я стану говорить больше, чем ты. А потом я увижу, что ты начинаешь дремать, и тогда буду говорить тише. Ты закроешь глаза, я перестану говорить, но буду тебя держать за руку, и ты периодически будешь жать мне руку, знать, что я тут. Постепенно твоя рука, хотя будет чувствовать мою руку, больше не сможет ее пожимать, я сам начну жать твою руку. И в какой-то момент тебя среди нас больше не будет, но ты уйдешь не один. Мы весь путь совершим вместе”. И так час за часом мы провели эту ночь. В какой-то момент он действительно перестал сжимать мою руку, я начал его руку пожимать, чтобы он знал, что я тут. Потом его рука начала холодеть, потом она раскрылась, и его больше с нами не было. И это очень важный момент; очень важно, чтобы человек не был один, когда уходит в вечность.
Но бывает и по-другому. Иногда человек болеет долго, и если он тогда окружен любовью, заботой — умирать легко, хотя больно (я об этом тоже скажу). Но очень страшно, когда человек окружен людьми, которые только и ждут, как бы он умер: мол, пока он болеет, мы пленники его болезни, мы не можем отойти от его койки не можем вернуться к своей жизни, не можем радоваться своим радостям; он, как темная туча, висит над нами; как бы он умер поскорее… И умирающий это чувствует. Это может длиться месяцами. Родные приходят и холодно спрашивают: “Ну как тебе? ничего? тебе что-нибудь нужно? ничего не нужно? ладно; ты знаешь, у меня свои дела, я еще вернусь к тебе”. И даже если голос не звучит жестоко, человек знает, что его посетили, только потому что надо было посетить, но что его смерти ждут с нетерпением.
А иногда бывает иначе. Человек умирает, умирает долго, но он любим, он дорог; и сам тоже готов пожертвовать счастьем пребывания с любимым человеком, потому что это может дать радость или помощь кому-то другому. Я позволю себе сейчас сказать нечто личное о себе.
Я позволю себе сейчас сказать нечто личное о себе.
Моя мать в течение трех лет умирала от рака; я за ней ходил. Мы были очень близки, дороги друг другу. Но у меня была своя работа, — я был единственным священником лондонского прихода, и кроме того раз в месяц должен был ездить в Париж на собрания Епархиального совета. У меня не было денег позвонить по телефону, поэтому я возвращался, думая: найду я мать живой или нет?.. Она была жива, — какая радость! какая встреча! .. Постепенно она стала угасать. Бывали моменты, когда она позвонит в звонок, я приду, и она мне скажет: “Мне тоскливо без тебя, побудем вместе”. А бывали моменты, когда мне самому было невмоготу. Я поднимался к ней, оставляя свои дела, и говорил: “Мне больно без тебя”. И она меня утешала о своем умирании и своей смерти. И так постепенно мы вместе уходили в вечность, потому что когда она умерла, она с собой унесла всю мою любовь к ней, все то, что между нами было. А было между нами так много!. Мы прожили почти всю жизнь вместе, только первые годы эмиграции жили врозь, потому что негде было жить вместе. Но потом мы жили вместе, и она меня знала глубоко. И как-то она мне сказала: “Как странно: чем больше я тебя знаю, тем меньше я могла бы о тебе сказать, потому что каждое слово, которое я о тебе сказала бы, надо было бы исправлять какими-нибудь дополнительными чертами”. Да, мы дошли до момента, когда знали друг друга так глубоко, что сказать друг о друге ничего не могли, а приобщиться к жизни, к умиранию и к смерти — могли.
Но потом мы жили вместе, и она меня знала глубоко. И как-то она мне сказала: “Как странно: чем больше я тебя знаю, тем меньше я могла бы о тебе сказать, потому что каждое слово, которое я о тебе сказала бы, надо было бы исправлять какими-нибудь дополнительными чертами”. Да, мы дошли до момента, когда знали друг друга так глубоко, что сказать друг о друге ничего не могли, а приобщиться к жизни, к умиранию и к смерти — могли.
И вот мы должны помнить, что каждый умирающий в таком положении, когда какая бы то ни была черствость, безразличие или желание “наконец бы это кончилось” — невыносимы. Человек это чувствует, знает, и мы должны научиться преодолевать в себе все темные, мрачные, скверные чувства и, забывая о себе, глубоко задумываться, вглядываться, вживаться в другого человека. И тогда смерть делается победой: О смерть, где твое жало?! О смерть, где твоя победа? Воскрес Христос, и мертвецов ни один во гробе…
Я хочу сказать еще нечто о смерти, потому что то, что я уже сказал, очень лично. Смерть нас окружает все время, смерть — это судьба всего человечества. Сейчас идут войны, умирают люди в ужасном страдании, и мы должны научиться быть спокойными по отношению к собственной смерти, потому что мы в ней видим жизнь, зарождающуюся вечную жизнь. Победа над смертью, над страхом смерти заключается в том, чтобы жить глубже и глубже вечностью и других приобщать к этой полноте жизни.
Смерть нас окружает все время, смерть — это судьба всего человечества. Сейчас идут войны, умирают люди в ужасном страдании, и мы должны научиться быть спокойными по отношению к собственной смерти, потому что мы в ней видим жизнь, зарождающуюся вечную жизнь. Победа над смертью, над страхом смерти заключается в том, чтобы жить глубже и глубже вечностью и других приобщать к этой полноте жизни.
Но перед смертью бывают другие моменты. Мы не сразу умираем, не просто телесно вымираем. Бывают очень странные явления. Мне вспоминается одна наша старушка, такая Мария Андреевна, замечательное маленькое существо, которая как-то ко мне пришла и говорит: “Отец Антоний, я не знаю, что с собой делать: я больше спать не могу. В течение всей ночи в моей памяти поднимаются образы моего прошлого, но не светлые, а только темные, дурные, мучающие меня образы. Я обратилась к доктору, просила дать мне какое-нибудь снотворное, но снотворное не снимает это марево. Когда я принимаю снотворное, я больше не в силах как бы отделить от себя эти образы, они делаются бредом, и мне еще хуже. Что мне делать?” Я ей тогда сказал: “Мария Андреевна, знаете, я в перевоплощение не верю, но верю, что нам дано от Бога пережить нашу жизнь не раз, — не в том смысле, что вы умрете и снова вернетесь к жизни, а в том, чтó сейчас с вами происходит. Когда вы были молоды, вы, в узких пределах своего понимания, порой поступали нехорошо; и словом, и мыслью, и действием порочили себя и других. Потом вы это забыли и в разном возрасте продолжали в меру своего понимания поступать подобно, опять-таки, себя унижать, осквернять, порочить. Теперь, когда у вас больше нет сил сопротивляться воспоминаниям, они всплывают, и каждый раз, всплывая, как бы говорят вам: Мария Андреевна, теперь что тебе за восемьдесят лет, почти девяносто — если бы ты оказалась в том же положении, которое тебе сейчас вспоминается, когда тебе было двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят лет, ты поступила бы так, как поступила тогда?.. Если вы можете глубоко вглядеться в то, что было тогда, в свое состояние, в события, в людей и сказать: нет, теперь, со своим опытом жизни, я ни за что не могла бы сказать это убийственное слово, не могла бы так поступить, как я поступила! — если вы можете это сказать всем своим существом: и мыслью, и сердцем, и волей, и плотью своей, — это от вас отойдет.
Что мне делать?” Я ей тогда сказал: “Мария Андреевна, знаете, я в перевоплощение не верю, но верю, что нам дано от Бога пережить нашу жизнь не раз, — не в том смысле, что вы умрете и снова вернетесь к жизни, а в том, чтó сейчас с вами происходит. Когда вы были молоды, вы, в узких пределах своего понимания, порой поступали нехорошо; и словом, и мыслью, и действием порочили себя и других. Потом вы это забыли и в разном возрасте продолжали в меру своего понимания поступать подобно, опять-таки, себя унижать, осквернять, порочить. Теперь, когда у вас больше нет сил сопротивляться воспоминаниям, они всплывают, и каждый раз, всплывая, как бы говорят вам: Мария Андреевна, теперь что тебе за восемьдесят лет, почти девяносто — если бы ты оказалась в том же положении, которое тебе сейчас вспоминается, когда тебе было двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят лет, ты поступила бы так, как поступила тогда?.. Если вы можете глубоко вглядеться в то, что было тогда, в свое состояние, в события, в людей и сказать: нет, теперь, со своим опытом жизни, я ни за что не могла бы сказать это убийственное слово, не могла бы так поступить, как я поступила! — если вы можете это сказать всем своим существом: и мыслью, и сердцем, и волей, и плотью своей, — это от вас отойдет. Но будут приходить другие, еще и еще другие образы. И каждый раз, когда будет приходить образ, перед вами Бог будет ставить вопрос: это твой прошлый грех или это все еще твой теперешний грех? Потому что если вы когда-то возненавидели какого-нибудь человека и не простили ему, не примирились с ним, то тогдашний грех — ваша теперешняя греховность; она от вас не отошла и не отойдет, пока вы не покаетесь”.
Но будут приходить другие, еще и еще другие образы. И каждый раз, когда будет приходить образ, перед вами Бог будет ставить вопрос: это твой прошлый грех или это все еще твой теперешний грех? Потому что если вы когда-то возненавидели какого-нибудь человека и не простили ему, не примирились с ним, то тогдашний грех — ваша теперешняя греховность; она от вас не отошла и не отойдет, пока вы не покаетесь”.
В этом же роде могу дать и другой пример. Меня вызвала однажды семья одной нашей ветхой старушки, светлой-пресветлой женщины. Она явно должна была умереть в тот же день. Она поисповедалась, и напоследок я ее спросил: “А скажите, Наташа, вы всем и все простили или у вас какая-то заноза еще есть в душе?”. Она ответила: “Всем я простила, кроме своего зятя; ему не прощу никогда!”. Я сказал на это: “В таком случае я не дам вам разрешительной молитвы и не причащу Святых Таин; вы уйдете на суд Божий и будете отвечать перед Богом за свои слова”. Она говорит: “Ведь я сегодня умру!”. — “Да, вы умрете без разрешительной молитвы и без причащения, если не покаетесь и не примиритесь. Я вернусь через час” — и ушел. Когда через час я вернулся, она меня встретила сияющим взором и говорит: “Как вы были правы! Я позвонила своему зятю, мы объяснились, примирились он сейчас едет ко мне, и я надеюсь, до смерти мы друг друга поцелуем, и я войду в вечность примиренная со всеми”.
Я вернусь через час” — и ушел. Когда через час я вернулся, она меня встретила сияющим взором и говорит: “Как вы были правы! Я позвонила своему зятю, мы объяснились, примирились он сейчас едет ко мне, и я надеюсь, до смерти мы друг друга поцелуем, и я войду в вечность примиренная со всеми”.
Источник: Архив митрополита Антония
Маргарет Драббл: «Я не боюсь смерти. Я беспокоюсь о жизни’ | Книги
Нам часто говорят, что в прежние времена во всех культурах существовало представление о загробной жизни — что «все» верили в ту или иную форму жизни после смерти, будь то путешествие по реке в темную землю, вечность адского огня и муки, рай с ангелами и амброзией или воссоединение с любимыми. Мы придумали множество метафор, чтобы пересечь Стикс. Некоторые культуры верили и верят в перерождение и переселение душ. В христианских странах 21-го века ортодоксальные религиозные службы по-прежнему обычно исповедуют веру в воскресение тела. Живопись, поэзия и мифология предлагают нам видения рая и ада, некоторые ужасающие, а некоторые, как у Стэнли Спенсера, обнадеживающие и утешительные. Но я всегда подозревал, что большинство из нас, даже в благочестивом Средневековье, где доминировали священники, на самом деле не верили в то, что мы говорили, что верим. Большинство из нас знали, что когда мы умирали, нас не было. Мы никуда не пошли. Мы перестали быть. Вот что нам не нравилось в смерти — не страх ада, а страх небытия.
Но я всегда подозревал, что большинство из нас, даже в благочестивом Средневековье, где доминировали священники, на самом деле не верили в то, что мы говорили, что верим. Большинство из нас знали, что когда мы умирали, нас не было. Мы никуда не пошли. Мы перестали быть. Вот что нам не нравилось в смерти — не страх ада, а страх небытия.
Исторически и антропологически это еретическая позиция, и когда я пытаюсь ее оспорить, меня обычно перекрикивали. Мне сказали, что у меня нет исторического воображения. Тогда все было иначе, утверждают ученые. Тогда природа человека была другой.
Возможно, так оно и было. Еще при жизни я знал нескольких верующих, истинно верующих, которые непременно попали бы в рай, если бы они были. Более века назад Роберт Браунинг вполне мог ожидать встречи со своей женой Элизабет Барретт Браунинг в потустороннем мире, как он написал в своем великом смертоносном стихотворении «Проспис», одном из первых произведений, которые я когда-либо выучил наизусть. «О ты, душа моей души! Я снова обниму тебя, и да будет с Богом остальное!» Их совместная жизнь на Земле была настолько чудесной, что еще одно чудо не было бы удивительным.
«О ты, душа моей души! Я снова обниму тебя, и да будет с Богом остальное!» Их совместная жизнь на Земле была настолько чудесной, что еще одно чудо не было бы удивительным.
Иллюзии о загробной жизни, кажется, также сковывают современных мучеников, если мы можем верить всему, что нам говорят. Но это уже другая история, другая тема, настолько чуждая большинству из нас, что ее трудно осмыслить.
Я бы сказал, что на преимущественно светском Западе мы сейчас живем в пострелигиозную эпоху, когда истинная вера в выживание после смерти, приятной или неприятной, ограничена небольшим меньшинством. Это не спорная позиция, но она заставляет остальных из нас бороться со значением смерти, поскольку мы больше не можем рассматривать ее как перевалочный пункт в какое-то другое место, или как великое приключение, или даже, в предполагаемых последних словах Генри Джеймса, как «выдающейся вещи». Смерть становится все менее заметной.
Одна из проблем со смертью в наше время заключается в том, что ее все чаще можно избежать или, по крайней мере, отсрочить. Мы материалисты и не верим в душу. В машине нет призрака. Мы находим медицинские решения медицинских проблем, мы покорно принимаем статины, а наши финансовые консультанты и их актуарии заявляют, что продолжительность нашей жизни увеличивается день за днем, час за часом. Это должно быть хорошо, как постоянно растущие цены на недвижимость, но с одной стороны мы все знаем, что это не так. Когда в бюллетенях по радио провозглашаются новые хорошие новости о долголетии, в голосе диктора обычно звучит удивительно мрачная нотка предчувствия. Ибо это не устойчивая траектория.
Мы материалисты и не верим в душу. В машине нет призрака. Мы находим медицинские решения медицинских проблем, мы покорно принимаем статины, а наши финансовые консультанты и их актуарии заявляют, что продолжительность нашей жизни увеличивается день за днем, час за часом. Это должно быть хорошо, как постоянно растущие цены на недвижимость, но с одной стороны мы все знаем, что это не так. Когда в бюллетенях по радио провозглашаются новые хорошие новости о долголетии, в голосе диктора обычно звучит удивительно мрачная нотка предчувствия. Ибо это не устойчивая траектория.
Научно-популярные и даже академические конференции обсуждают возможности людей, живущих сотни лет и дольше, но некоторые из нас помнят ужасную судьбу бессмертных струльдбругов Джонатана Свифта на острове Лаггнегг, в году Гулливера. Путешествует , обречен жить с ослабленными способностями до глубокой старости.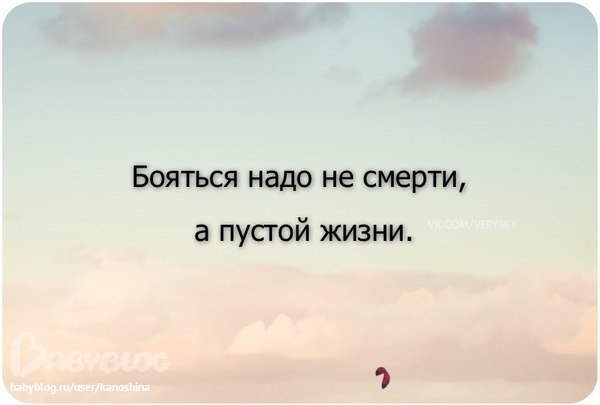 Свифт не стесняется в словах: его бессмертные (из которых женщины, конечно, более «ужасны», чем мужчины) «имели не только глупости и немощи других стариков, но и многие другие, проистекавшие из ужасной перспективы никогда не умереть». . Они были не только самоуверенными, сварливыми, алчными, угрюмыми, тщеславными, болтливыми, но неспособными к дружбе и мертвыми для всех естественных привязанностей, которые никогда не опускались ниже уровня их внуков. Их преобладающими страстями являются зависть и бессильные желания… они забывают общепринятые названия вещей и имена людей, даже тех, которые являются их ближайшими друзьями и родственниками. По той же причине они никогда не смогут развлечься чтением, потому что их память не поможет им донести их от начала предложения до конца…» Он мог бы описывать воспитанников дома престарелых XXI века. .
Свифт не стесняется в словах: его бессмертные (из которых женщины, конечно, более «ужасны», чем мужчины) «имели не только глупости и немощи других стариков, но и многие другие, проистекавшие из ужасной перспективы никогда не умереть». . Они были не только самоуверенными, сварливыми, алчными, угрюмыми, тщеславными, болтливыми, но неспособными к дружбе и мертвыми для всех естественных привязанностей, которые никогда не опускались ниже уровня их внуков. Их преобладающими страстями являются зависть и бессильные желания… они забывают общепринятые названия вещей и имена людей, даже тех, которые являются их ближайшими друзьями и родственниками. По той же причине они никогда не смогут развлечься чтением, потому что их память не поможет им донести их от начала предложения до конца…» Он мог бы описывать воспитанников дома престарелых XXI века. .
Даже те эгоистичные плутократы, чьи головы или части тела были заморожены в надежде на открытие методов их оживления в отдаленном будущем, должны сомневаться в качестве жизни, которую они могут ожидать, когда их вернут из холодильника. . О, скука бессмертия! Тупость смерти в жизни, застывшей на века в пробирке! Жуткое пробуждение! Ужасная лженаука крионики, конечно, спекулятивна, но это не остановило несколько сотен человек, которые уже идут на это, а за ними выстраивается очередь. Как мы знаем из пронзительного романа Кадзуо Исигуро, Никогда не отпускай меня , некоторые люди не остановятся ни перед чем, пытаясь продлить свою жизнь. Осознание нашей смертности — тема Исигуро. Мы можем доверять ему в этом.
. О, скука бессмертия! Тупость смерти в жизни, застывшей на века в пробирке! Жуткое пробуждение! Ужасная лженаука крионики, конечно, спекулятивна, но это не остановило несколько сотен человек, которые уже идут на это, а за ними выстраивается очередь. Как мы знаем из пронзительного романа Кадзуо Исигуро, Никогда не отпускай меня , некоторые люди не остановятся ни перед чем, пытаясь продлить свою жизнь. Осознание нашей смертности — тема Исигуро. Мы можем доверять ему в этом.
Благодаря нашей собственной смертной изобретательности мы достигаем исторической фазы, когда начинаем бояться старости и долголетия больше, чем смерти. Мы больше не можем рассчитывать на возможность внезапного, неожиданного, милосердного освобождения, или засыпать в постели, читая книгу (как это делала моя мать), или прекращать в полночь без боли. Мы также не можем планировать отпраздновать наш отъезд как великую кульминацию наших жизненных усилий милостивым, благодарным и, возможно, публичным прощанием. Это потому, что мы знаем, что назойливые люди будут стремиться поддерживать нашу жизнь так долго, как только смогут, до тех пор, пока мы больше не сможем ничем наслаждаться. Просто чтобы доказать, что они могут.
Это потому, что мы знаем, что назойливые люди будут стремиться поддерживать нашу жизнь так долго, как только смогут, до тех пор, пока мы больше не сможем ничем наслаждаться. Просто чтобы доказать, что они могут.
Бюрократия жестокости и страха с уменьшающейся отдачей окружает заботу о конце жизни и возможные пути в могилу. Если мы не будем осторожны, она снова и снова будет тянуть нас с края пропасти, пока жизнь не станет настолько невыносимой и недостойной, что мы будем молиться об уходе.
Я иногда спрашиваю себя, приближаясь к месту, откуда не возвращается ни один путник, боюсь ли я смерти. Нет ничего плохого в том, чтобы бояться умереть. Доктор Джонсон, этот великодушный и набожный, но истерзанный христианин, очень боялся. Но могу более-менее честно сказать, что нет. Дело не в том, что я не думаю об этом — я думаю об этом каждый день, как делал это с тех пор, как у меня появились дети, эти заложники судьбы. Но я не трачу время, которое у меня осталось, на беспокойство об этом. О чем я беспокоюсь, так это о жизни.
О чем я беспокоюсь, так это о жизни.
Как долго мы хотим жить? Это не простой вопрос. Замораживатели мозгов, клоны людей и, возможно, Цукерберги, вероятно, ответили бы «навсегда», что, как давным-давно указал Свифт, является очень глупым ответом. Но если ты бойко не скажешь «навсегда», то какой срок ты себе назначишь? Недавно я был на философской конференции в колледже Наффилд в Оксфорде, на которой обсуждались вопросы старения с особым упором на государственную политику в отношении распределения пенсий и справедливости между поколениями. Нас попросили принять решение между различными сценариями, включающими, например, короткую и болезненную жизнь или более долгую активную жизнь, заканчивающуюся в последующие годы затяжной болезнью и недееспособностью. Как должны распределяться товары и облагаться налогом на богатство в будущем, принимая во внимание демографические изменения стареющего населения? Нас попросили подумать, в каком возрасте мы бы предпочли умереть, если бы у нас был выбор, и было высказано предположение, что в наши дни мы будем думать, что 70 — слишком молодо, 80 — правильно, а 100 — слишком старо.
Самый поразительный момент произошел во время сеанса вопросов и ответов, когда нормальная, здоровая на вид женщина средних лет добровольно сообщила, что ей дали ожидаемую продолжительность жизни 100 лет. Очевидно, сейчас это не является чем-то необычным. По понятным причинам она не казалась полностью счастливой по этому поводу: перспектива казалась скорее бременем, чем благословением. Она не хотела быть струльдбругом. Может быть, в некоторых кругах считается нормальным проверять ожидаемую продолжительность жизни, прежде чем, скажем, уменьшить требования к жилью или изменить размер ренты. Я вижу в этом практичность. И я помню, как странно, врач общей практики сказал моей тете: «Я могу гарантировать тебе, пока тебе не исполнится 9 лет».0, но не намного после этого». Врачи не часто бывают такими откровенными. И доктор был прав: моя тетя жила самостоятельно в своем любимом, но все более неубранном доме, потом провела два несчастливых года на попечении и умерла в возрасте 92 лет.
Недавно, в 2014 году, меня попросили принять участие в дебатах об оптимальном возрасте смерти, который был предложен биоэтиком Иезекиилем Эмануэлем в провокационной статье в Атлантике как 75 лет. Я помню легкое чувство шока, когда я открыл это приглашение в своем BlackBerry, сидя в невинном неведении в Little Chef рядом с A303 в Сомерсете. Я знал, почему меня спросили: недавно я опубликовал статью в поддержку права на помощь при смерти (против которого, как ни странно, выступает Эмануэль), и мне на тот момент было ровно 75 лет. Мне пора идти, очевидно, думали другие люди. Я сразу же отказался: мне вообще не хотелось заниматься этой темой. А затем я вернулся к наслаждению своей богатой холестерином, умеренной статинами креветками с креветками и чипсами. От больших вопросов к маленьким удовольствиям. Вот как мы продолжаем идти.
Я помню легкое чувство шока, когда я открыл это приглашение в своем BlackBerry, сидя в невинном неведении в Little Chef рядом с A303 в Сомерсете. Я знал, почему меня спросили: недавно я опубликовал статью в поддержку права на помощь при смерти (против которого, как ни странно, выступает Эмануэль), и мне на тот момент было ровно 75 лет. Мне пора идти, очевидно, думали другие люди. Я сразу же отказался: мне вообще не хотелось заниматься этой темой. А затем я вернулся к наслаждению своей богатой холестерином, умеренной статинами креветками с креветками и чипсами. От больших вопросов к маленьким удовольствиям. Вот как мы продолжаем идти.
С тех пор я много думал над вопросом об установленном сроке. Эмануэль не сказал, что вы должны расписаться в 75 лет, он просто рекомендовал, чтобы после этой даты вы отказались от навязчивой или дорогостоящей медицинской помощи, направленной на продление вашей жизни. Вы не должны использовать чужие ресурсы. (У меня есть некоторое сочувствие к этой позиции. ) Романист Энтони Троллоп пошел гораздо дальше в своем сатирическом романе «Фиксированный период », действие которого происходит в 1980 году и опубликовано в 1882 году, в последний год его жизни: в нем он изобретает утопическое (или антиутопическое) антиподное островное общество, которое недавно приняло закон, постановляющий, что для общего блага эвтаназия будет обязательной для всех его граждан в возрасте от 67 до 68 лет. , все меньше убеждаются в достоинствах закона, и все кончается так, как можно было бы ожидать. Это мрачный маленький роман, и он меня угнетает.
) Романист Энтони Троллоп пошел гораздо дальше в своем сатирическом романе «Фиксированный период », действие которого происходит в 1980 году и опубликовано в 1882 году, в последний год его жизни: в нем он изобретает утопическое (или антиутопическое) антиподное островное общество, которое недавно приняло закон, постановляющий, что для общего блага эвтаназия будет обязательной для всех его граждан в возрасте от 67 до 68 лет. , все меньше убеждаются в достоинствах закона, и все кончается так, как можно было бы ожидать. Это мрачный маленький роман, и он меня угнетает.
Каждый день мы читаем или слышим печальные свидетельства тех, кому приходилось принимать болезненные решения о жизни и смерти
Внешние факторы никогда не должны сообщать нам точную дату нашей смерти. Это слишком много знаний, чтобы их вынести. Государство никогда не должно навязывать фиксированную смерть. Не имеет права. «Британула» Троллопа была такой же оппозицией смертной казни, как и я, и, в отличие от Британии того времени, отменила ее: ясно, что понятия фиксированного срока жизни и государственного смертного приговора были каким-то образом связаны в сознании Троллопа, и оба казались ему ошибаться.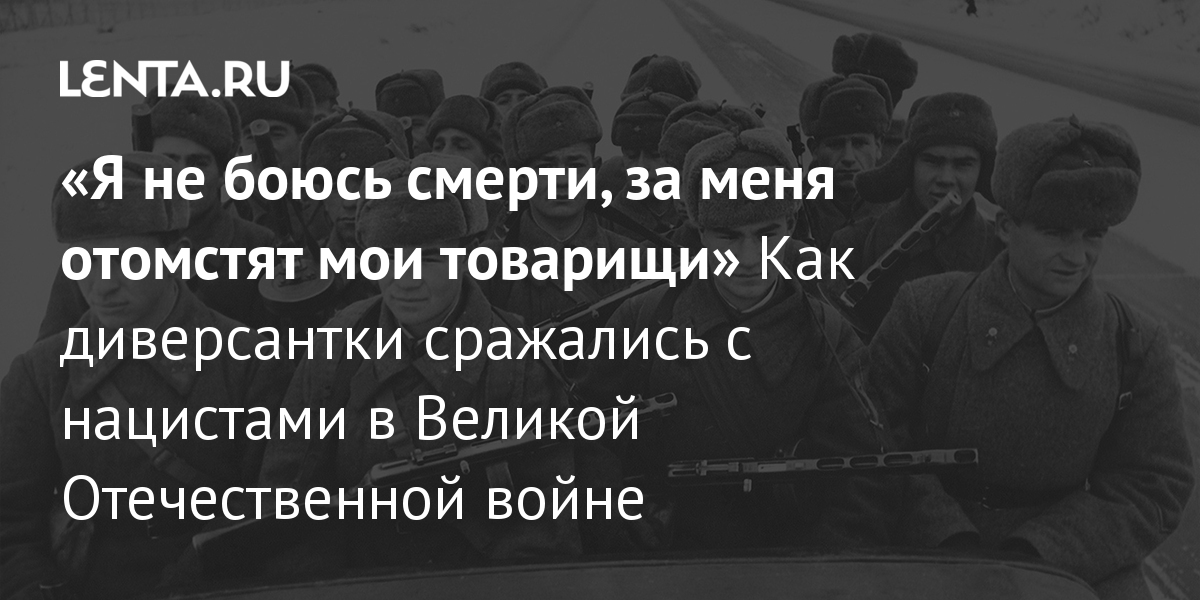 Не должно быть возможности для некоторых людей сказать другому человеку «в такой-то день ты умрешь». Мы можем выбрать свою собственную дату, и мы можем отправиться в Dignitas в Швейцарию, чтобы сохранить ее, но она может быть выбрана не за нас. Самостоятельность в смерти является основным правом человека.
Не должно быть возможности для некоторых людей сказать другому человеку «в такой-то день ты умрешь». Мы можем выбрать свою собственную дату, и мы можем отправиться в Dignitas в Швейцарию, чтобы сохранить ее, но она может быть выбрана не за нас. Самостоятельность в смерти является основным правом человека.
Я не хочу приуменьшать вновь возникшие этические трудности, с которыми сталкиваются врачи, фельдшеры, епископы и законодатели. Проблемы настоящие. Каждый день мы читаем или слышим тревожные свидетельства тех, кому приходилось принимать болезненные решения, связанные с жизнью и смертью, об удалении кардиостимуляторов или отключении аппаратов жизнеобеспечения. Вопросы обычно исследуются с особой тщательностью, и мы можем услышать их подробное обсуждение в серии Джоан Бейкуэлл Radio 4 Inside the Ethics Committee . Это не предотвращает жестоких судебных ошибок, вызванных чаще бюрократической и юридической неразберихой, чем фанатизмом или самозащитой. Мы находимся в не нанесенной на карту местности.
Бейкуэлл, которой чуть за 80, олицетворяет радостную возможность полезной и счастливой старости. Но не всем удается стареть так же успешно, как ей, и оставаться красноречивыми, красивыми, энергичными, предприимчивыми. Многие из нас будут истощаться и страдать слабоумием, недержанием мочи, потерей подвижности и хронической или острой болью. Наши тела становятся нашими врагами в долгосрочной перспективе и не хотят, чтобы мы жили вечно. Наступит момент, когда нам больше не захочется смотреться в зеркало. Нам не нравится признавать, что в глубокой старости есть что-то отталкивающее, но я могу вспомнить, если быть честным, что в детстве я находил зрелище некоторых очень старых людей тревожным и пугающим. Мы не хотим, чтобы нас оставили в живых как память о смерти для других. Пойдем, пока это не случилось.
Но давайте закончим на светлой стороне смерти. Многие люди развлекаются, организуя собственные похороны или поминки, и, конечно же, вы не сможете устроить похороны, если не заплатите цену за то, что умрете первым.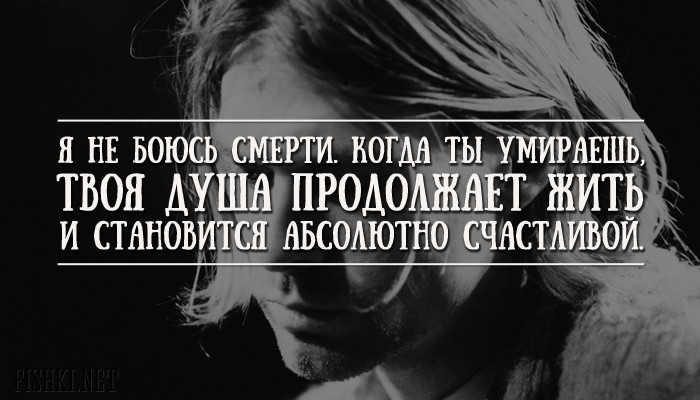 Некоторые, кого я знаю, спланировали (и даже оплатили) все заранее – гроб, погост или лесной участок, гимны, музыку. Они захватили контроль. Я не зашел так далеко, но ясно дал понять, что хочу, чтобы меня кремировали, а не похоронили в холодной земле. Я был бы не против похорон в море, так как мысль о том, что меня сожрут под водой, странно привлекает меня, но я думаю, что это трудно устроить, и я не хочу быть помехой. Я хочу, чтобы все спели один из моих любимых гимнов: «Вернись, человек, отрекись от безумных путей твоих», потому что он полон нерушимой надежды на лучший мир, хотя меня и не будет рядом, чтобы увидеть это. . Но больше всего меня радует мысль о том, что мой внук Дэнни пообещал спеть на моих похоронах.
Некоторые, кого я знаю, спланировали (и даже оплатили) все заранее – гроб, погост или лесной участок, гимны, музыку. Они захватили контроль. Я не зашел так далеко, но ясно дал понять, что хочу, чтобы меня кремировали, а не похоронили в холодной земле. Я был бы не против похорон в море, так как мысль о том, что меня сожрут под водой, странно привлекает меня, но я думаю, что это трудно устроить, и я не хочу быть помехой. Я хочу, чтобы все спели один из моих любимых гимнов: «Вернись, человек, отрекись от безумных путей твоих», потому что он полон нерушимой надежды на лучший мир, хотя меня и не будет рядом, чтобы увидеть это. . Но больше всего меня радует мысль о том, что мой внук Дэнни пообещал спеть на моих похоронах.
Я улыбаюсь каждый раз, когда думаю об этом. Я не против того, что он поет; на самом деле я не возражаю, если он нарушит свое обещание и вообще не будет петь, так как я не буду знать об этом, не так ли? Если он окажется в это время в Австралии и не захочет лететь обратно, я не возражаю. Но идея этого, здесь и сейчас, прекрасна для меня. Никто из Драбблов с моей стороны семьи петь вообще не умеет, мы безнадежно немузыкальны, но зато у него действительно красивый голос, с помощью которого он и его 9Хор 0014 a cappella вышел в полуфинал конкурса Britain’s Got Talent в 2011 году. Вы не можете стать лучше, чем это. Я улыбаюсь, когда пишу это. Все будет хорошо, когда я уйду.
Но идея этого, здесь и сейчас, прекрасна для меня. Никто из Драбблов с моей стороны семьи петь вообще не умеет, мы безнадежно немузыкальны, но зато у него действительно красивый голос, с помощью которого он и его 9Хор 0014 a cappella вышел в полуфинал конкурса Britain’s Got Talent в 2011 году. Вы не можете стать лучше, чем это. Я улыбаюсь, когда пишу это. Все будет хорошо, когда я уйду.
The Dark Flood Rises опубликована Canongate 3 ноября. Чтобы заказать копию за 13,93 фунтов стерлингов (рекомендованная розничная цена 16,99 фунтов стерлингов), перейдите на сайт bookshop.theguardian.com или позвоните по телефону 0330 333 6846. Бесплатно в Великобритании на сумму свыше 10 фунтов стерлингов, только онлайн-заказы. Минимальный размер заказа по телефону составляет 1,99 фунта стерлингов.
я не боюсь смерти синоним | Словарь английских синонимов
1 встревоженные, тревожные, опасные, трусливые, слабонервные, страшные, напуганные, запуганные, нервные, неохотные, напуганные, подозрительные, робкие, дать нея
1 дерзкий, дерзкий, бесстрашный, счастливый, бесстрашный, равнодушный, довольный, бесстрашный
Английский словарь Коллинза — английские синонимы и тезаурус  
Смотрите также:
засушливый, дело, едкий, впоследствии
Collaborative Dictionary Английский тезаурус
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вы хотите отклонить эту запись: дайте нам свои комментарии (неправильный перевод/определение, повторяющиеся записи. |

 ]
]